Песнь восхождения. Брат Лев Жабко-Потапович

И, воспевши, пошли на гору Елеонскую. Матф 26:30
Во дни молодости я видел в одной из художественных галерей картину: от нижнего края её и до самого верха взбегал бесчисленный ряд ступеней, ведущих к какому-то огромному храму, верхи башен, сгибов и колонн которого едва вырисовывались высоко вдали.
Внизу ещё царил мрак ночи: черные, темно-синие и фиолетовые пятна мрачными тенями лежали на первых ступенях; чем выше, тем светлее становились они: кармин сменялся коричневыми и оранжевыми тонами, угрюмое индиго переливалось в нужный аквамарин, радостные голубые, жёлтые и розовые блики становились всё гуще, победнее, и на самом верху вся эта музыка красок, вдруг разгоревшись, сверкая, волнуясь и трепеща, — прерывалась неожиданным потоком солнечного всеосвещающего блеска.
И, начиная с самых нижних ступеней, затерянных в безнадёжном мраке, вся лестница была покрыта тысячами людей в светлых одеждах, с арфами в руках, поднимавшихся туда вверх, к невидимому храму, где их бесчисленные фигуры, уменьшаясь и бледнея, растворялись и исчезали в радужных лучах могучего света. В каталоге я нашёл название картины: «Песнь восхождения»; с презрительным недоумением я отвернулся: мне было двадцать три года, я оканчивал высшую школу, верил словам Спинозы о том, что «человек может любить Бога, но Бог человека — никогда», и в бессонные тёмные ночи с ужасом думал о самоубийстве, как о единственном разумном исходе жизни.
Много лет спустя, когда достиг меня Христос, прочёл я в псалтири ряд псалмов-песен восхождения и вспомнил о когда-то виденной картине.
В древнем Иерусалиме, при первом блеске утренней зари, гремели со стен и башен Сиона серебряные трубы левитов. Тысячи набожных евреев спешили ко храму по его ступеням с «песнями восхождения» на устах.
В последнюю, перед смертью, ночь Христос с учениками впервые совершил новую песнь восхождения ко храму молитв, слёз и страданий — к саду Гефсимании. И с тех пор, из века в век, тысячи христиан воспевали её — эту скорбную, а вместе с тем и радостную, песнь.
За Христом скоро пошёл диакон Стефан. В Св. Писании нет упоминания о его смерти в страшный день побиения, но вся его речь перед судом, его последнее восклицание об отверстых небесах, молитва всепрощения за миг до кончины, его тихое успение — разве всё это для нас, христиан, не звучит, как незабвенная райская музыка, как песнь восхождения к Сыну Человеческому, стоящему одесную Бога!
Мы не знаем, как умирал Апостол Иаков, сын грома; не знаем, пил ли он в момент, когда испивал ту чашу, и крестился тем крещением, которого жаждал ещё при жизни Спасителя, но его смерть была — следующей песнью восхождения.
Один за другим, спели её все Апостолы, каждый по-своему, а за ними длинной вереницей потянулись дети Божьи всех веков и народов...
В древнехристианских анналах нет повествований более трогательных, чем те, которые упоминают о предсмертном пении страдальцев, восходивших некогда к Господу. Безграничным волнением веет от эпически спокойных строк, рассказывающих о последних минутах жизни Перпетуи и её товарищей, Карфагенских мучеников.
«... После долгого пребывания в мрачной, смрадной тюрьме, куда никогда не проникал свет солнца, — их, в ночь перед мучением, переводят в подземелье цирка. Последняя ночь, как и десятки предыдущих, проходит на коленях в молитве. Там, где-то в щелях потолка подземелья наступает день — заключённые узнают это по глухому, похожему на шум моря, реву народа и диких зверей. Наконец, их ведут... ведут по ступеням лестницы, идущей на арену. В мраке подземелья, при кровавом блеске факелов, цепляясь руками за перила и друг за друга, смертники поднимаются темной, робкой, трепещущей массой...
И, вдруг, Перпетуя запела. Отворилась последняя дверь, и блеск и аромат африканского утра ударили в глаза и груди страдальцев. На мгновение закрылись ослеплённые очи, закружились свежим воздухом опьянённые головы, подогнулись ослабевшие колени..., но только на один миг. Из уст Перпетуи вырываются звуки псалма 133-го; мученики подхватывают... затих амфитеатр, замолкли тысячи людей, слушая последнюю песнь умирающих... Песнь восхождения...»
Вот другая ночь, через тысячу лет... город Безье осаждён крестоносцами, пришедшими на юг Франции уничтожать «еретиков» — альбигойцев. В городе толпы народа, сбежавшегося из окрестных деревень. Они переполнили все здания, запрудили улицы и площади. Никто не спит; все ждут смерти.
Почему же осаждающие не входят в город? Может быть, боятся отчаянного сопротивления? Нет, их только на время задержало одно препятствие... вожди крестоносцев собрались у кардинала, папского легата и излагают ему причину задержки: в обречённом городе двадцать тысяч людей, и, среди них, вероятно, есть много и своих: как быть? — как в сутолоке боя отличить католиков от «еретиков»?
Минута раздумья, и сомнение «кардинально» разрешается: «убивайте всех подряд, а Господь своих разберёт» — говорит легат.
Войско врывается в город; на улицах и площадях, в жилых и молитвенных домах тысячи мужчин, женщин, детей... на коленях, с зажжёнными в руках свечами, они устремили взоры в далёкое звёздное небо и ждут...
Начинается резня, и сейчас же, как пожар, раздаётся песнь.
Песнь восхождения!
К утру восхождение закончено... тучи дыма вздымаются над пылающим городом...
6 июля 1415 года в небольшом городке Констанце, расположенном над Баденским озером, происходило необычайное торжество; десятки тысяч людей, съехавшихся в городок по случаю происходившего в нём вселенского церковного собора, толпились на главных улицах города, с захватывающим интересом присматриваясь к обычному в те времена инквизиционному процессу, следующему к месту совершения auto da fe. На этот раз интерес к происходившему усиливался тем, что место осужденного в процессии было занято Яном Гусом, знаменитым чешским проповедником, восставшим за истину Христову и преданным за это на мучение и казнь.
Когда его привели к месту смерти, привязали к дереву, обложили дровами до подбородка и зажгли их, Гус запел:
О, Иисусе, Сын Живого Бога,
Умилосердись надо мною...
И до тех пор, пока не задохнулся от жара и дыма, он пел свою песнь восхождения...
Нужны долгие годы упорного труда, чтобы собрать воедино и описать все случаи смерти христианских страдальцев с их песнями восхождения...
Передо мной лежит письмо...
«... Все наши проповедники в тюрьмах и ссылке... мы собираемся по ночам, по пять-шесть человек, чтобы не навлекать подозрений... чтобы не было слышно, мы читаем, молимся и поём шёпотом... я устала, измучилась и хочу домой, к моему Спасителю... вы там живёте на свободе, радуйтесь и работайте для Христа... а нам уже пора домой...»
Откуда это? Из времён гонений на первых христиан? Нет, письмо — из Москвы, от верующей. А вот и другое, извещающее о смерти её. Её письмо — разве оно не было песнью восхождения!
От дней Христа и до сих пор поётся она, бесконечная, непрерывная песня восхождения.
Будем же жить так, чтобы — когда настанет наш черёд, мы смогли бы спеть её с любовью, верой и надеждой...
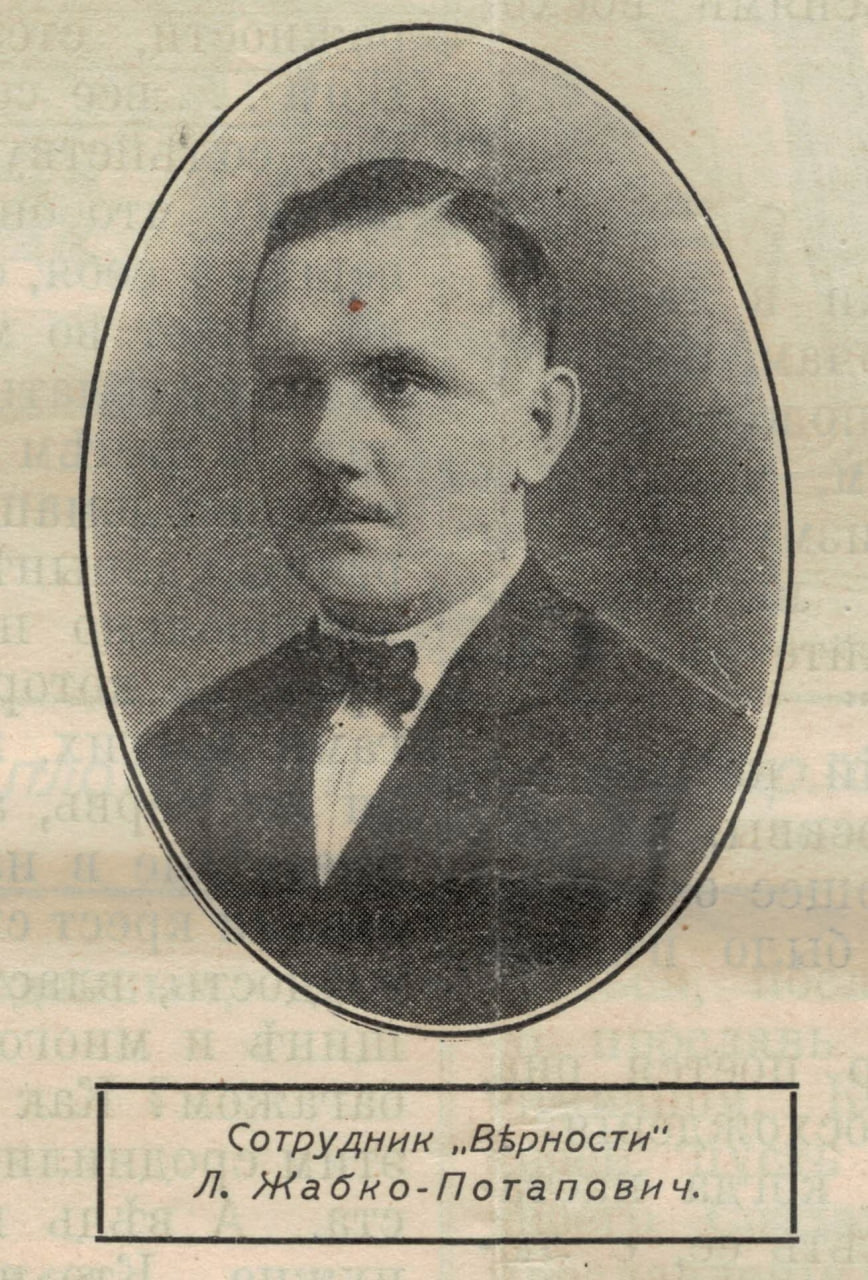
Из Польши. Л. Жабко-Потапович
НА УЗКОМ ХРИСТОВОМ ПУТИ (стихотворение)
Вперёд! Без страха и сомненья,
Хотя б стезя, — как ночь темна;
Ты видишь свет в твоём стремленье —
То путеводная звезда.
Пускай суров твой путь — унылый,
Пускай не видно там конца,
Иди вперёд, не стой, мой милый,
Иди же с верою в Творца.
Не твой дух — хитрость и коварство;
Погибнут те, что ищут тьму;
Что, если ты возьмёшь полцарства,
Да сгубишь душу тем свою?
Не верь в партийные стремленья,
Не верь вождям, что на земле;
Да будет лозунг: устремленье
Вперёд и Бог во всём, везде.
Не чувствам доверяй, ни тем,
Хоть красота пускай светлей,
Чем Ангелы, — но если взглянешь...
Затем уйди от них скорей.
Не верь обрядам, школам, модам,
Всему, что тянет на земле;
Отдайся Богу, Он народам
Свой мир и радость даст везде.
Пускай клянут тебя безбожно,
Иль, с лестью, хвалят без причин, —
Иди вперёд! и непреложно
Ищи, где Бог — вот путь, мой сын.
Путь тот унылый, путь жестокий;
Тебя ж вперёд ведёт звезда;
Ты не споткнёшься одинокий;
Как видишь свет — иди туда!
По английскому тексту. Финляндия. Сентябрь, 1931 год. В. А. Кинг
